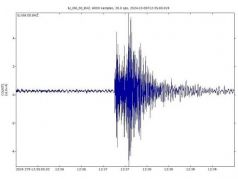Особенностью второй половины 80-х годов в СССР стало быстрое размывание (в рамках политической либерализации), а затем и крах (в условиях бурной демократизации) системы запретов, которая была свойственна советскому обществу с того момента, когда революционность стала сменяться консерватизмом. То есть с середины 30-х годов, когда Сталин вернул в школы "гражданскую историю", запретил аборты и восстановил офицерские звания. Сама система запретов также не была постоянной – достигнув пика в период позднего сталинизма, она трансформировалась, причем даже после конца оттепели не вернулась к максимальному уровню.
К середине 80-х система запретов настолько обветшала, что ее конец превратился в карнавал культурного разнообразия. А дальше возникло самое интересное. Наряду со "старыми запретителями", для которых карнавал изначально был нелепой аномалией, со временем все чаще стали появляться "новые запретители", одна часть из которых отшатнулись от карнавала по эстетическим соображениям, а другая – по мотивам государственной пользы (нередко оба аргумента соединяются). "Новое запретительство" связано с несколькими факторами.
Во-первых, обычная поколенческая проблема, свойственная не только России и часто аргументируемая словами, приписываемыми Черчиллю: "Кто в молодости не был либералом – у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором – у того нет ума". Хотя Черчилль этого и не говорил.
Во-вторых, для многих сторонников перемен в 80-90-е годы было актуально понятие "догоняющего развития". Но сам Запад при этом воспринимался как мир, известный по фильмам о Шерлоке Холмсе – интересно, что одной из его характеристик была "ухоженность" старого доброго мира. И ощущение, что Запад ушел куда-то не туда и догонять его не стоит, началось еще в 90-е годы, когда реальные Европа и Америка оказались иными, чем мечталось. Кстати, сейчас для лоялистов символом "ухоженности" является Беларусь (улицы чистые, люди работают, мигрантов не видно – лепота, как сказал бы царь Иван Васильевич). И от восхищения немецким ordnung в 1980-е годы до такого же восхищения порядком в лукашенковской Беларуси – дистанция отнюдь не огромного размера.
В-третьих, границы возможного каждый понимал по-своему. И российский модернизм 80-90-х годов изначально имел значительную архаичную составляющую с "Москвой златоглавой" и "Поручиком Голицыным". Популярная тогда формула "Возрождение России" нередко иллюстрировалась ее неформальным символом – храмом Христа Спасителя. Новый российский либерализм был ближе к западному консерватизму, в том числе за счет жесткого антикоммунизма, который вел к неприятию любой "левизны". А уж если говорить о консерватизме, то на память нередко приходит слесарь-интеллигент Полесов, который "был настолько правым, что даже не знал, к какой партии принадлежит".
В-четвертых, сами свободы воспринимались многими их сторонниками сугубо инструментально, а не как самоценность. Например, выставки современного искусства вкупе с такими разными понятиями как суды присяжных и либеральное земельное законодательство, должны были работать на инвестиционную привлекательность страны. Дабы иностранный инвестор, прибыв в Россию, чувствовал себя как дома, и видел страну, живущую по привычным ему и комфортным для него правилам. И мог в рамках светской жизни сходить на выходных на такую же выставку, как у себя в Европе. А раз теперь ситуация изменилась и инвестпривлекательность более не актуальна, то "никакого модернизьма, никакого абстракционизьма".
Наконец, в-пятых, не только разочарование в Западе, но и фрустрация от потери земель, входивших в состав как СССР, так и Российской империи, ведут к тому, что появляются "вещи несовместные". Либералы, эволюционируя в направлении консерватизма, со временем доходят до Сталина. И появляются разные версии православного сталинизма, где подсчитывается, сколько жизней Сталин спас, запретив аборты – и как это было хорошо и с державной, и с религиозной точек зрения. Раньше такие рассуждения выглядели немыслимыми – сейчас они уже не удивляют.
! Орфография и стилистика автора сохранены